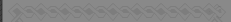|
Как
антифашисты должны относиться к проблеме
террора и терроризма? Следует ли просто
отвергать террор как путь насилия и убийства,
какой бы идеологией он ни оправдывался?
Нацистскому террору (терроризму) в нашем
семинаре будет посвящен отдельный доклад –
здесь же нам хотелось затронуть самые общие
вопросы. Ведь в проблемах, связанных с
терроризмом, очень много неясностей и
затруднений: лица, которых принято считать
террористами, настойчиво отказываются от этого
звания (провозглашая себя в первую очередь
революционерами, к примеру), или же террористом
часто называют преступника, захватывающего
заложников для побега из своей страны или для
освобождения кого-либо из соратников. Мы будем
рассматривать терроризм политический, хотя это
и не значит, что политический террор (или
терроризм) лишен криминального измерения – и все
же намного более важной и значимой нам
представляется именно этическая сторона
проблемы. Ведь оценивать ситуацию как
невыносимую, из которой террор кажется
единственным выходом, можно всегда – и в царской
России, и в социал-демократической Германии
1970-х
годов. Для нас главным является не проблема
объективных условий, порождающих терроризм, а
вопрос – ради чего совершаются террористические
действия.
Вопрос об этических ценностях,
во имя которых творится насилие, важен для того,
чтобы развести понятия террора и терроризма. Мы
не считаем наше решение привычным или
общепринятым, однако оно, на наш взгляд,
позволяет разобраться во многих сложностях
проблемы терроризма. В качестве пояснения
приведем простую иллюстрацию семейной драмы:
если пьяный отец методично избивает своего сына
– это будет в нашей интерпретации террором, а
если мальчик возьмет однажды в руки молоток и
захочет отомстить – это уже будет терроризмом.
Если терроризм по сути означает сопротивление
превосходящему его насилию и избирателен, то
террор распространяется на целые группы, нации
или классы по принципу коллективной
ответственности. Вот почему вылазки современных
ультраправых типологически подобны именно
нацистскому террору – отдельного чернокожего,
араба или еврея бьют для того, чтобы запугать
всех остальных; в принципе же дискриминации,
вытеснению или уничтожению подлежит вся
нежелательная группа.
Итак, терроризм в нашем
понимании – это реакция на государственное –
чаще всего – насилие, восходящая к древней
традиции тираноубийства. Здесь терроризм – это
защита в первую очередь оскорбленного
достоинства, тем самым террористический акт как
бы воспроизводит ситуацию и логику дуэли, притом
дуэли, где террорист прибегает к насилию как к
последнему средству защиты своих ценностей
перед лицом превосходящей его неправой силы.
Нравственный, этический аспект является здесь
важнейшим и определяющим.
В отличие от терроризма террор
– это система насильственных действий,
употребляемая, как правило, организациями,
партиями или группами для достижения своих
политических целей. Не рассматривая сейчас
государственный террор, можно сказать, что
главной для политического террора является
проблема власти – борьбы с существующей
системой, возможность диктовать ей свои условия,
где ориентиром выступает в конечном счете именно
завоевание господствующей позиции.
Так, выстрел еврейского
студента Гриншпуна 8 ноября 1938 г. в Париже в
советника немецкого посольства графа фон Кара
был актом терроризма – действием отчаяния и
протеста против уже начатой нацистами политики
преследования евреев. Развязанный после событий
«хрустальной ночи» геноцид неарийского
населения Германии был проявлением террора, для
которого выстрел в Париже оказался только
поводом – «окончательное решение» еврейского
вопроса было необходимой частью всей доктрины
национал-социализма. С этой точки зрения –
разделения террора и терроризма – мы можем
рассмотреть те исторические явления, которые
обычно связываются с террором и терроризмом.
В России это прежде всего
народовольцы и эсеры. Хотя сама идея террора как
средства борьбы с властью, способа
воздействовать на нее и заставить уважать права
подданных родилась гораздо раньше. Уже в период
тайных декабристских организаций рождалась
идея цареубийства – когда, по словам Пушкина,
«Меланхолический Якушкин / Казалось, молча
обнажал / Цареубийственный кинжал». После реформ
1861 года не удовлетворенный их половинчатым и
грабительским характером молодой радикал Петр
Зайчневский написал в заключении прокламацию
«Молодая Россия», призывая «в топоры» для
уничтожения императорской партии. Первым актом
политического терроризма в России можно считать
выстрел Дмитрия Каракозова в Александра II в
Петербурге у решетки Летнего сада 4 апреля
1866 г. Основоположник русского социализма
Герцен в «Колоколе» недвусмысленно отмежевался
от опубликованной им же прокламации «Молодая
Россия» как от проявления юношеского
максимализма и осудил Каракозова. Кстати, и в
кружке Николая Ишутина, к которому был близок
Каракозов, и в «Народной расправе» Сергея
Нечаева, описанной в «Бесах» Достоевского, уже
созревает идея своего рода революционной
политической полиции, ведающей террором и
направляющей действия революционеров.
Однако вовсе не Ишутин или
Нечаев – как это порой сейчас принято считать,
особенно в отношении последнего, – были
примерами для революционеров и террористов
последующего поколения. Перед тем, как говорить
о деятелях «Народной воли», стоит отметить, что
народовольческому террору предшествовал мирный
и легальный этап освободительного движения –
так называемое «хождение в народ» в середине
1870-х
годов, большинство из участников которого было
осуждено на известном «процессе ста девяносто
трех». Началом этой фазы террористического
движения принято считать известное покушение
Веры Засулич 24 января 1878 г. на
петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова,
приказавшего высечь политзаключенного
Боголепова, не снявшего перед ним шапку во время
обхода. Это было никем не санкционированное
решение; позднее, во время процесса, сама Засулич
заявила, что «хотела обратить внимание
общественного мнения на это происшествие и
сделать не таким легким надругательство над
человеческим достоинством». Известно решение
суда присяжных (Засулич судили как обычную
уголовницу) под председательством А.Ф. Кони,
оправдавшего Засулич; зато гораздо менее
известно, что сразу же после вынесения этого
приговора она была вынуждена скрыться и
эмигрировать, поскольку ее должны были повторно
арестовать. Показательно, что Засулич уже с
конца 1870-х выступает против систематического
террора и не вступает во вновь созданную
«Народную волю». И если сейчас принято
изображать революционеров 1870-х как
предшественников большевиков, потенциальных
сторонников тоталитарной власти и «отщепенцев»,
то как объяснить тот неподдельный энтузиазм,
которым встретила петербургская публика
оправдание Засулич? Почему для всей – именно
всей! – последующей разночинской интеллигенции
имена Засулич, Перовской и Желябова были святыми?
Кроме того, в идейном и личном бескорыстии
русских террористов не сомневались, как правило,
даже их противники.
Той же «крайней мерой
самозащиты» объяснял народоволец-террорист
Сергей Степняк-Кравчинский убийство им
4 августа 1878 г. шефа корпуса жандармов
Мезенцева (тот был среди бела дня прямо в центре
Петербурга заколот кинжалом). В статье «Смерть за
смерть», объяснявшей побудительные причины
этого террористического акта,
Степняк-Кравчинский отмечал: «Убийство – вещь
ужасная. Только в минуту сильнейшего аффекта,
доходящего до потери самосознания, человек, не
будучи извергом и выродком человечества, может
лишить жизни себе подобного». Он вполне
оправданно пишет: «Мы, русские, вначале были
более какой бы то ни было нации склонны
воздержаться от всяких кровавых мер, к которым не
могли нас приучить ни наша предшествующая
история, ни наше воспитание. Само правительство
толкнуло нас на тот кровавый путь, на который мы
встали. Само правительство вложило нам в руки
кинжал и револьвер». Убийство Мезенцева было
ответом на казнь за два дня до этого одесского
народника Ковальского и ужесточение приговоров
по и без того заведомо преувеличенным – как это
признавали и сами власти – срокам наказания по
процессу ста девяноста трех. Даже первое
покушение на Александра II 2 апреля 1879 г.
народовольца Соловьева было в какой-то степени
индивидуальным актом – приехавший из провинции
народный учитель Соловьев настаивал на том, что
попытается убить царя даже вопреки мнению
организации и шел на убийство с заготовленным
для себя самого ядом, который в итоге не
подействовал. Народовольцы – в том числе и
Желябов на суде по делу об убийстве
Александра II 1 марта 1881 г. – подчеркивали,
что отойдут в сторону при начале подлинно
народной революции и их задача – лишь разбудить
крестьянство; они менее всего заботились о своем
месте во главе революции и тем более будущего
революционного порядка. Единственным
народовольцем, пытавшимся возвести терроризм в
некую теорию, был Николай Морозов с его брошюрой
«Террористическая борьба» (Женева, 1880). В ней
он, приводя в качестве эпиграфа высказывания
якобинцев о благодетельности тираноубийства1
доказывал, что в нынешних условиях не
партизанская крестьянская война и не
баррикадные бои в городских кварталах, но
именно покушения на высших представителей
власти являются наилучшей формой революционной
борьбы «по методу Вильгельма Телля», как он
называл свою систему. Любопытно, что террористом
Морозов оставался только теоретически: его
каждый раз задерживали и арестовывали (в
последний раз он провел в заключении 23 года!) при
подготовке какого-либо теракта, и свои доктрины
он лично так и не опробовал в действии.
Однако уже у народовольцев
появляются идеи о том, что они могут указывать
правительству, а главное – всем остальным
правильный способ жизни и действия, от имени
интеллигенции и передовой части общества
реализовывать через террор – ввиду отсутствия
любой другой формы оппозиции – свои идеалы. Но
особенно это проявится в деятельности партии
эсеров и созданной в ее рамках уже в 1901г.
Боевой организации. Из акта самозащиты и
протеста террористическая деятельность, как и
подчеркивал идеолог партии Виктор Чернов,
превращается в «один из родов оружия,
находящийся в руках у одной из частей нашей
революционной армии». Терроризм приобретает у
эсеров – согласно нашей терминологии – черты
террора: он становится одним из рычагов
запугивания верхушки и овладения властью, а с
другой стороны – превращается в сугубо
техническую, а не нравственную проблему.
Появляются исполнители-боевики, организаторы,
проводящие свою деятельность в секрете от
большинства членов революционной партии
и т. д. Дело Евно Азефа – крупнейшего
провокатора и руководителя Боевой организации
эсеров – становится, тем самым, вполне
закономерным (описано у Бурцева и
Николаевского). Если терроризм направлен
именно против власти, то террор (пусть даже и
революционный) осуществляется во имя власти. В
этом – существеннейшая разница и
противоположность этих понятий.
В таком свете западный опыт не
представляет в смысле прояснения главных
понятий чего-либо нового и так или иначе
развивается, условно говоря, либо в
«народовольческом» (этическом), либо в
«эсеровском» (властном) измерении. Так, если
созданная в 1918 г. Ирландская республиканская
армия вначале была в первую очередь организацией
сопротивления англичанам, и в особенности –
самообороны против оккупационной жандармерии
и полу уголовных отрядов «чернопегих», то
современная ИРА (не сложившая оружия)
предпочитает разговаривать с лондонским
правительством на языке взрывов, ставя под
угрозу жизни мирных граждан. Речь ведь идет о
взрывах не тюрем и полицейских участков, а
супермаркетов и закусочных! Обыватели
оказываются виноваты уже хотя бы в том, что
поддерживают своим бытием существующий порядок
вещей; а кто не с нами, тот, по этой логике, против
нас.
Но такая аргументация
современных террористических движений, в первую
очередь национальных (ирландцы, баски,
палестинцы и т. д.), весьма близко подходит
к идее коллективной ответственности и
коллективной вины, как она понимается
праворадикальными террористами-наци. Протестный
терроризм на национальной почве грозит
превратиться в агрессивный и тотальный по
отношению к «врагам» террор. Очень важная деталь:
многие современные террористические
организации левого или национального толка (как
ИРА или «Фракция Красной Армии» в ФРГ
1970-х
годов) именуют себя армиями – они
построены по военному образцу и заняты
вооруженной борьбой с существующим режимом. И
если терроризм – это отчаянная и крайняя попытка
заставить власть «вернуться» в нормальные
рамки действия, то военная деятельность или
партизанская война – это уже существование по
принципиально иным, нежели нормальное
гражданское существование, законам (в этом, по
нашему, и заключается ключ к проблеме так
называемого «чеченского терроризма» – ибо речь
здесь должна идти именно о войне и о логике
военных действий).
Пока из современных российских
политических сил террористические действия в
принципе допустимыми признает
Национал-большевистская партия, а
соответствующие технические указания и
инструкции можно прочитать на страницах ее
печати. Национал-большевистский ревизионизм
проблемы террора предполагает соединение левого
(антисистемного) и национального терроризма.
Однако поскольку речь идет о терроре против
меньшинств – кавказцев, чернокожих и т. д.,
– а не против подавляющей и угнетающей
иноэтничной власти, что бы ни кричали о
национальности «олигархов» или «оккупационном
режиме» – никакой поддержки в обществе эти
действия не встречают. А ведь «классический»
терроризм (народовольческого или, отчасти,
анархического образца) так или иначе всегда
отсылает к общественному мнению. Поэтому
понятно, почему национал-большевики, к счастью,
пока одними угрозами и ограничиваются – едва ли
и в будущем от них будет исходить серьезная
опасность.
В нашем докладе мы затронули
только самые общие проблемы, связанные с
феноменом террора и терроризма. Кроме того, речь
может идти не только о человеческих жизнях, но и о
материальных вещах: так, на Западе преступления
против собственности (в чем обвиняют
захватывающих пустые дома сквотеров) могут
рассматриваться как террористические действия!
Отдельно на семинаре мы предполагаем обсудить и
тему экотерроризма – и здесь вопрос о целях и
конечных принципах также кажется нам решающим. С
другой стороны – проблема терроризма может
рассматриваться и в более общем виде – с точки
зрения соотношения насилия и ненасилия в
человеческом развитии.
Было бы прекраснодушием
надеяться, что проблема насилия и терроризма
исчезнет сама собой и все вопросы будут впредь
решаться сугубо мирным путем. Наиболее
общераспространенным сегодня отношением к
терроризму является полное и безоговорочное его
осуждение – как и всякого насильственного
действия, притязающего в конечном счете и на
человеческую жизнь. Между тем, даже самых
последовательных противников террора и
убежденных приверженцев ненасилия ставит в
тупик один вопрос: а как быть с покушениями на
Гитлера – тоже осуждать тех немцев, которые
решались на это в период нацистской диктатуры?
Ведь события в Советском Союзе после марта
1953 г. показывают, что после смерти диктатора
или тирана действительно наступают важные
изменения. С точки зрения ценности и
уникальности любой человеческой жизни
преступлением является и выстрел Гриншпуна
8 ноября 1938 г. в Париже. Однако здесь – в
заключение – можно вспомнить и о другом, наверно,
самом известном в истории ХХ века,
террористическом акте, не связанном
непосредственно с покушением на человеческую
жизнь, – о поджоге рейхстага 28 февраля 1933 г.
Маринусом ван дер Люббе. Именно это событие и
послужило предлогом для перехода нацистов, уже
контролировавших кабинет, к осуществлению
прямой диктатуры под наспех утвержденные
чрезвычайные полномочия. Нацисты увидели в этом
акте тот самый коммунистический заговор,
которым они так долго пугали обывателей,
нужный предлог для запрета компартии и перехода
в наступление на остатки Веймарской демократии.
Коммунисты (Димитров на Лейпцигском процессе)
всячески открещивались от ван дер Люббе,
примыкавшего к левой группировке, стоявшей за
пределами сталинистской компартии Голландии, и
намекали, что он сыграл в этом процессе роль
провокатора. Несмотря на некоторые неясности,
историки в 1960-е годы пришли к выводу, что ван дер
Люббе действительно был одиночкой, который смог
осуществить эту акцию, руководствуясь чувством
протеста – именно эти слова он кричал в момент
задержания – против политики не только
нацистского правительства, но и
консервативно-буржуазного крыла рейхстага,
позволившего Гитлеру прийти к власти. Понятно,
что террор и переход к диктатуре осуществлялся
бы фашистами и без поджога рейхстага – точно так
же, как и Холокост начался не из-за выстрела
Гриншпуна; и все же эти субъективно искренние и
честные акты протеста – подпадающие под понятие
терроризма в нашем понимании – оказались
использованы нацистами в целях упрочения своей
власти. Об этих последствиях нельзя забывать
при оценке антифашистского терроризма
1930-х
годов.
И все же у антифашистов есть
надежный критерий и ориентир для оценок – опыт
антифашистского Сопротивления: если где-либо
людям приходится браться за оружие во имя
тех же идеалов, мы не только не станем осуждать
или отворачиваться, но попробуем подумать, чем мы
сможем им помочь.
Источник: http://tumbalalaika.ru |